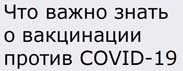С.А. Бойко. «Я к вам пишу случайно; право…»
С.А. Бойко. «Я к вам пишу случайно; право…» //Московский лермонтовский сборник. Выпуск 1. «Из пламя и света рожденное слово…»-Москва, «Новости», 2008.-9-15 с.
«Я к Вам пишу случайно; право…»
Так начинается лермонтовский «Валерик», одно из последних его стихотворений, одно из талантливейших творений поэта, где в единой и необычной гармонии слились потрясающе достоверные в своей объективности батальные описания и полные грусти, безысходности и надежды — целой гаммы противоречивых чувств — лирические откровения.
В лермонтоведении до сих пор нет единого мнения, когда и как был написан «Валерик». Попробуем разобраться.
В начале мая 1840 г. Лермонтов покидал Петербург. Судьба опять гнала его на Кавказ в очередную ссылку, теперь за дуэль с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом.
10 июля Лермонтов прибыл в Ставрополь и представился генерал-адъютанту Павлу Христофоровичу Граббе, командующему войсками на Кавказской линии и в Черноморье. Граббе направил его не в Тенгин-ский пехотный полк, по месту назначения, а прямо в зону боевых действий, в отряд генерал-лейтенанта А.В. Галафеева, которому предстояла экспедиция в Малую Чечню.
6 июля отряд выступил из крепости Грозной, а 10-го дошёл до селения Гехи. На следующий день, 11 июля, в Гехском лесу при реке Валерик состоялось большое сражение, жестокое и кровопролитное.
Как скажет впоследствии уже в наше время Юрий Беличенко, русский офицер, поэт и журналист, «первый бой, как и первая любовь, не забывается никогда».
И Лермонтов не забыл своего первого боевого крещения. Ему он посвятил свои акварели — «Эпизод из сражения при Валерике 11 июля 1840 года» (рисунок поэта раскрасил художник ГГ. Гагарин) и «При Валерике 12 июля (похороны убитых в сражении)».
О сражении Лермонтов писал своему другу Алексею Лопухину и обещал при встрече рассказать подробности.
«Поэтический рассказ» Лермонтова о валерикской битве слушал Юрий Самарин в Москве в апреле 1841 г. И, наконец, этой теме было посвящено стихотворение, такое далёкое от традиционного пафоса батальной лирики. Это был совершенно новый, задолго до Л.Н. Толстого, взгляд на войну и на изображение человека на войне. Впервые оно появилось в альманахе «Утренняя заря» под названием «Валерик» с пометой «Последнее стихотворение Лермонтова» и с указанием даты его написания — «1841 год».
Во всех последующих изданиях произведений поэта указывалась именно эта дата до тех пор, пока в марте 1887 г. профессор Дерптского университета П.А. Висковатый, выступая в печати по поводу выхода 6-го издания сочинений Лермонтова (СПб, 1887), не возразил категорически редактору издания П.А. Ефремову: «Валерик» неверно помечен 1841 годом. Он писан тотчас после сражения, в котором оказал большие услуги поэт наш. Сражение это имело место в 1840 году 6 июля».
Своё мнение о дате Висковатый высказывал и раньше, однако Ефремов был другого мнения. Окончательно дату написания «Валерика» –1840 год – Висковатый закрепил в издании сочинений Лермонтова 1891 г., выпущенном под его редакцией к 50-летию со дня гибели поэта. Эта дата официально признана в лермонтоведении и в настоящее время.
Против такой датировки категорически выступила Эмма Григорьевна Герштейн. Её версию поддержал ИЛ. Андроников: «… «Валерик» вряд ли мог быть написан по следам события, – писал он, — иначе трудно было бы объяснить строку «Раз, это было под Гехами», ибо понятия «раз», «однажды» возникают тогда, когда событие отделено от рассказа временным промежутком». «Впрочем,— как позднее отметит Эмма Григорьевна, — в следующем издании (1975 г.) И.А.Андроников без всяких оговорок оставил прежнюю датировку «1840 год». Мнение её о датировке 1841 годом не считает достаточно убедительным и Е.М. Пульхритудова.
Какие же аргументы в защиту своей версии выдвинула Э.Г. Герштейн?
Во-первых, она считала, что дневниковая запись Самарина о его встрече с Лермонтовым в Москве в апреле 1841 г. «отмечена чертами,
позволяющими сказать, что даже в апреле 1841 г. «Валерик» ещё не был написан. Показывая Самарину кавказские рисунки и рассказывая о валерикском сражении, Лермонтов обязательно прочитал бы собеседнику своё стихотворение, если бы оно было уже закончено. Вспомним, как он принёс Самарину «Спор», написанный тогда же в Москве в 1841 году».
Думается, что Лермонтов не только прочитал бы стихотворение, но, как и «Спор», отдал бы напечатать. Впрочем, если бы «Валерик» был написан, как утверждал Висковатый, «тот час после сражения», Лермонтов ещё в Петербурге отдал бы его Краевскому в «Отечественные записки», как он поступал с другими своими стихотворениями. Во-вторых, исследовательница обращает внимание ещё на один важный момент — «психологию творчества поэта»:
«Дрожащий голос Лермонтова, рассказывающего Самарину о сражении при Валерике, слёзы на глазах, желание оправдаться в непрошенном волнении — разве это могло бы быть, если бы «Валерик» был написан, то есть личные эмоции были бы уже переплавлены в гармоническое целое?»
И ещё один, пожалуй, самый важный аргумент в защиту версии Э. Герштейн — как менялось отношение Лермонтова к войне.
Вспомним волнующие душу строки из «Валерика»:
И с грустью тайной и сердечной Я думал: «Жалкий человек, Чего он хочет!., небо ясно, Под небом места много всем, Но беспрестанно и напрасно Один враждует он — зачем ?»
А в письме к Алексею Лопухину в сентябре 1840 г. Лермонтов писал так: «Я вошёл во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдётся удовольствий, которые не показались бы приторными»”.
«Это настроение, — как заметила Э.Г. Герштейн, — резко отличается от идей «Валерика», очевидно позднейших и более зрелых». К этому вполне справедливому выводу хочу добавить, что письмо Лопухину Лермонтов писал во время передышки, из госпиталя, ещё не остыв от горячки боевой обстановки, в которой теперь жил, когда «были каждый день дела» и когда было не до рассуждений и оценок происходящего.
Он, конечно же, прекрасно понимал важность присоединения Кавказа к России, для осуществления которого война была вынужденной мерой. Но уже тогда, ещё не отдавая себе полного и ясного отчёта в своих наблюдениях и выводах, он не мог в душе одобрительно относиться к реалиям кавказской войны, о которых так красноречиво сви-детельствуют воспоминания неизвестного очевидца и участника тех событий, опубликованные в 60-е годы XIX века:
«Весной 1840 года начальник 20 дивизии Галафеев ходил по Чечне и имел огромные потери, без результатов. Гут были дела жаркие, и самое ужасное из всех, что было на реке Валерик. Галафеев овладел полем битвы, но на другой же день , проходя дальше , был преследован чеченцами, которые таким образом провожали его до Терека…Осенью в этом же году Грабе сам пошел в Чечню, и та же неудача, как и прежде…»
Итак, бессмысленная бойня людей… Зачем? А каким трагизмом, болью, безысходностью и горечью пронизано стихотворение «Наедине с тобою брат…», написанное после осенних экспедиций 1840 г. и, кстати, напечатанное при жизни Лермонтова («Отечественные записки», 1841, т. 14, №2).
Как видим, осмысление истинной сути кавказских дел уже начиналось, но иногда для того, чтобы окончательно оценить происходящее, надо выйти из его орбиты, отстраниться от него, посмотреть на всё со стороны. И Лермонтову такая возможность представилась: «…бабушка просила о прощении, а мне дали отпуск», — писал он Д.С. Бибикову. 14 января 1841 г. Лермонтову был выдан отпускной билет на два месяца, а в начале февраля он уже был в Петербурге. Лермонтов очень надеялся получить отставку, отдать, наконец, всего себя литературному труду, открыть свой журнал… Но в отставке, как и в боевых наградах, ему было отказано.
Поэт возвращался на Кавказ с тяжёлым сердцем и мрачными предчувствиями, зная, что и в будущих наградах — самом верном пути к отставке — ему снова могут отказать, а вместо желанного литературного труда его опять ожидает тяжёлая служба пехотного офицера. И вся эта, выражаясь языком Пушкина, «смешная жестокость войн» осоз-навалась им всё чётче.
В Петербурге, без сомненья, Лермонтов рассказывал, и не однажды, о своей боевой жизни. Но теперь, по мере приближения к Кавказу, потребность высказаться он чувствовал всё сильнее и сильнее. И не просто высказаться, а излить душу, поделиться наболевшим, встретить понимание.
Понятно теперь то сильнейшее, до слёз, волнение Лермонтова, когда он делился с Фёдором Самариным воспоминаниями о валерикском сражении. Но Самарин — увы! — не понял его, и Лермонтов почувствовал это. Отсюда его смущение и неловкое стремление объяснить своё волнение сильной жарой, расстроившей нервы. Да, Самарин – это не Алёша Лопухин, который бы понял всё с полуслова и своим сердечным дружеским участием согрел бы его усталую, изболевшуюся душу. Перед Алёшей не надо было бы стесняться своих слёз…
Но мечта Лермонтова посидеть с ним у камина и рассказать ему «долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни» так и не сбылась. Дом Лопухиных, как и зимой, когда он ехал в Петербург, был пуст. Алексей с детьми и больной женой вот уже несколько месяцев находился в деревне. Вернётся в Москву он только в мае, когда Лермонтова там уже не будет. Мария всё ещё пребывала за границей, куда уехала два года назад вместе с Варенькой и её семьёй. Приедет в Москву она только в июне. Тяжёлое душевное состояние Лермонтова во время этого последнего его пребывания в Москве прекрасно почувствовал поэт В.И Красов. В письме к А.А. Краевскому он писал: «… я встретился с ним в зале Благородного собрания, — он на другой день ехал на Кавказ. Я не видал его десять лет — и как он изменился! Какое энергическое, простое львиное лицо! Он был грустен, и, когда он уходил из собрания в своём армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце — так мне жаль его было».
Итак, очевидно, в каком душевном состоянии в сознании Лермонтова вынашивались и зрели «идеи «Валерика», по выражению Э.Г. Гер-штейн. Но для того, чтобы мысли и переживания вылились, наконец, в поэтические образы, нужен был какой-то стимул. Таким стимулом, по мнению Герштейн, явился для Лермонтова его рассказ Самарину о сражении.
При всей моей солидарности с исследовательницей считаю, что рассказ Лермонтова своим эмоциональным настроем мог только приблизить время создания «Валерика». Подлинным импульсом для этого, уверена, послужило другое — встреча с В.А. Лопухиной (Бахметевой). Аналогичные случаи уже бывали. Достаточно вспомнить, как встреча с ней вдохновила поэта на создание стихотворения «Ребёнку» или, к примеру, VI редакции «Демона», — так называемый «Лопухинский список» — с замечательным посвящением В.А. Лопухиной .
Предвижу вопрос: но какая встреча? Ведь Варенька со своей семьёй и сестрой Марией ещё за границей!
Однако, как оказалось, Варенька вот уже несколько месяцев, как вернулась в Москву. К этому её вынудило важное обстоятельство — очередные роды.
Об этом нам стало известно из письма Алексея Лопухина сестре Марии, из села Успенского в Штутгарт: «Бахметев пишет, что Варенька, слава богу, оправляется очень хорошо, и просит меня известить о времени вашего приезда».
Сестра Лиза (Трубецкая) в приписке уточняет: «Варенька, благодарение бога, оправилась хорошо после родов (выделено мною — СБ.), однако жаль, что мёртвый ребёнок, право, это очень грустно для них».
Письмо Лопухина датировано 22 апреля 1841 года, Бахметев писал ему ещё раньше, следовательно, раз Варенька «оправилась очень хорошо», положенные после родов шесть недель уже прошли, и она теперь могла появляться в свете. А ведь в это время Лермонтов ещё был в Москве!
Едва вернувшись из-за границы, в первом письме от 19 июня 1841 г. Мария Лопухина сообщала Сашеньке Верещагиной (баронессе Хюгель): «Про сестрицу Варю говорят, что она необыкновенно изменилась после родин, они пошли ей на пользу. Она сделалась весела, оживлена, признаёт, что всегда была слишком робка и давала слишком большую волю воображению, теперь же будет всё по-другому. Будучи в Москве, она повсюду разъезжала, словом, она больше не желает прозябать, как сама говорит, а имеет большое намерение жить весело».
А не встреча ли с Лермонтовым и его неизменная любовь к ней, которую она прочла в его глазах, произвели с тихой и скромной Варенькой такую перемену?
И почему Лермонтов не уехал на Кавказ вместе со своим родственником, сослуживцем и попутчиком Столыпиным—Монго, а потом догонял его, задержавшись в Москве на день — полтора?
Не исключено, что в эти апрельские дни 1841 г. последняя в жизни встреча Лермонтова с Варенькой состоялась. Очень короткая, мимолётная, возможно, даже на людях, совсем не такая, как хотелось бы, но, думается, она всё-таки была.
И, возможно, уже в пути, его исповедь, которую он так и не успел высказать ей, его «безыскусственный рассказ», стал превращаться в волнующее, исполненное грусти послание, первые строки которого — свидетельство, что переписка между ними была, и всякие сомнения в сё существовании пора отбросить:
Я к вам пишу, случайно; право Не знаю, как и для чего. Я потерял уж это право…