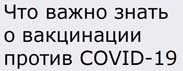Мелихов, А. “Со страшной жаждой песнопенья…” [Текст]: к 185-летию со дня рождения М. Ю.Лермонтова / Мелихов А. // Октябрь. – 1999. – №10. – С. 179-185.
Мелихов, А. “Со страшной жаждой песнопенья…” [Текст]: к 185-летию со дня рождения М. Ю.Лермонтова / Мелихов А. // Октябрь. – 1999. – №10. – С. 179-185.
Со страшной жаждой песнопенья
В юности я был настолько впечатлителен, что одна лишь мысль о таком пустяке, как смерть, могла испортить мне настроение среди самого бурного веселья. Но вот если умирать в полдневный жар в долине Дагестана — это хоть сейчас. Так я и открывал в Лермонтове (или в себе?) странность за странностью. Божественный Печорин — да он же, получается, не очень хороший человек?.. А сам Лермонтов — то восхищается гордыми сынами Кавказа, то дерется с ними не хуже черкеса. Да еще воспевает Ермолова: «Их ведет, грозя очами, генерал седой». При том, что ему вроде бы и недорога слава, купленная кровью. Отвергает жизнь и живет за десятерых…
В «Толковом словаре живаго великорусского языка» Владимира Ивановича Даля нет слова «романтик» — вам удастся отыскать лишь слова «романтизм» и «романтический» — причем в значениях, характеризующих только «изящные сочинения»: «вольные, свободные, не стесненные условными правилами» (противоположные значения отмечены тоже чисто литературные: «классицизм», «классический»). «Толковый словарь» Д. А. Ушакова (1939 г.) придает романтизму уже более широкое значение — это еще и «умонастроение, характеризующееся преобладанием мечтательной созерцательности и чувства над рассудком, идеализацией действительности». А «Словарь иностранных слов» 1980 года указывает еще один оттенок: романтика — это «героика, подъем, пафос борьбы и свершений».
Так что же все-таки — мечтательность или героика? Какой должна быть общая формула романтизма, чтобы под нее подходили столь разные предметы, чтобы оказались романтиками и нежный, «сладостный» Василий Андреевич Жуковский, и суровый, «гражданственный» Кондратий Рылеев?
О романтизме написаны целые библиотеки, из коих складывается впечатление, что романтизм — явление настолько сложное и многостороннее, настолько меняющееся от эпохи к эпохе, от страны к стране, от художника к художнику, что, подчеркивая различные его особенности, можно приходить к выводам самым противоположным. Но есть же у него какой-то общий источник? Мне кажется, корень романтизма точнее всего может быть обозначен словом «неудовлетворенность» — неудовлетворенность, обращенная на все, что считается твердо и окончательно установленным или установившимся.
Если принять эту гипотезу, сразу будет ясно, что проявления романтизма должны быть неисчерпаемо многообразными: скажем, в монархическом государстве романтик воспевает республиканские свободы, а в демократическом — красоты монархии, трона и рыцарства. Именно красоты, ибо достоинства пользы никогда не вызывают сомнений у подавляющего большинства населения, а потому редко влекут романтика. Романтизм — вечная неуспокоенность: из-за этого романтики так часто бичуют «толпу» — носителя общепризнанных мнений и вкусов. В пору безграничного господства утилитаризма, позитивизма романтик может сделаться мистиком, эстетом, засилье же мистицизма или эстетства способно превратить его в утилитариста и позитивиста, доверяющего лишь скальпелю и микроскопу (Писарева можно назвать именно романтиком науки). Зато среди установившейся, трезвой, расчетливой жизни романтик снова начнет живописать доблестных рыцарей или гордых дикарей.
Но наиболее последовательный романтик — это тот, кто не удовлетворяется даже собственной мечтой, даже собственным бунтом. И поэтому самый романтичный из романтиков — это романтик трагический.
Интересно, откуда столько обаяния в пессимизме… Но нет, косноязычная мрачность вялой души отнюдь не привлекательна, другое дело — скорбные звуки, исторгнутые духом могучим, гордым, негодующим, наделенным голосом красоты почти божественной,— так трудно не впасть в напыщенность, говоря о лорде Байроне (самое имя звучит органной музыкой)! Советская критика, дабы отнять его у критики «буржуазной», целые десятилетия отыскивала у него оптимистические мотивы, сокрушенно разводя руками, когда оптимизма не удавалось высмотреть даже в микроскоп — в стихотворении «Тьма», например, из которого беззащитный читатель мог узнать, что если, к примеру, погаснет солнце, то человечеству не поможет уже никакая освободительная борьба трудящихся масс.
Однако не заключает ли в себе пессимизм и жизненно необходимых начал? Конечно, вовсе без оптимизма, без надежды на успех трудно приняться за любое дело — да и просто жить не очень приятно. Но разве энергичные оптимисты, не знающие сомнений в своих силах и разуме, разве эти бравые устроители и преобразователи не ввергают человечество из века в век во все более и более чудовищные бедствия? Пессимисты, твердящие о неустранимой трагичности бытия, не вызвали и миллионной доли этих несчастий…
Лермонтов еще мальчиком был с такой силой захвачен грандиозной поэзией и личностью Байрона (красавец, замечательный стрелок и пловец, герой, отдавший жизнь за освобождение Греции), что соглашался быть «также несчастлив, как Байрон»— только бы «достигнуть» его гения: «У нас одна душа, одни и те же муки, — о если б одинаков был удел!..» Но — «Нет, я не Байрон, я другой…» При желании можно даже предпринять попытку доказать, что Лермонтов — поэт «еще более» трагический. Он как будто видит безнадежность всякого пути, открытого смертному. Многие романтики противопоставляли расчетливому и холодному «свету» бескорыстную дружбу и верную любовь — у Лермонтова выражения вроде «друзей клевета ядовитая», «в наш век все чувства лишь на срок» разбросаны там-сям как нечто само собой разумеющееся. А ведь у него был верный благородный друг Алексей Столыпин («Монго»), не покидавший «Маёшку» ни в бою, ни на гусарской пирушке; Лермонтов был, можно сказать, очевидцем того, как жены декабристов отправлялись вслед за мужьями в Сибирь,— с высоты какого же идеала все это казалось недостаточным? Романтическая мечта о неземном совершенстве иногда становится такой высокомерной, что может показаться внушенной каким-то демоном: «Покажет образ совершенства и вдруг отнимет навсегда…»
В знаменитой «Думе» Лермонтов скорбит о бесплодности своего поколения — он, подаривший миру поистине бесценные плоды. Но, прежде чем бросаться в буквалистический спор с ним (многие вообще считают «николаевскую эпоху» самой плодотворной в духовной жизни России), поищем противоположный отголосок в поэтическом мире Лермонтова. Перечитаем хотя бы «Три пальмы»,— они тоже роптали, что растут и цветут без пользы, «ничей благосклонный не радуя взор»,— и небо дает им возможность послужить людям: «И следом печальным на почве бесплодной Виднелся лишь пепел седой и холодный…»
«Перед опасностью позорно малодушны И перед властию — презренные рабы»,— в столь чеканных строках не может не звучать какая-то высшая правда. Тем не менее в «Княгине Литовской» говорится (тоже как о чем-то общеизвестном): «Печорин в продолжении кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат». Что ж, романтик и не должен успокаиваться на какой-то одной точке зрения… Хотя, что касается рабства перед властью… Лирику Лермонтова много раз совершенно справедливо называли вольнолюбивой, однако ему с ранней юности были ясны и ужасы революций:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать.
«Черный год», «бедный край» — вряд ли Лермонтов мог желать этого, несмотря на всю ненависть к тиранам. Он кажется здесь большим консерватором, чем мно¬гие сегодняшние либеральные трибуны…
Как подлинный романтик, Лермонтов с самой ранней юности остро ощущал свое одиночество, а порой даже гордился им — свидетельством своей исключительности («Стансы» 1830 года, написанные Мишелем в возрасте девятиклассника):
Я к одиночеству привык,
Я б не умел ужиться с другом;
Я б с ним препровожденный миг
Почел потерянным досугом.
Но его же до конца дней преследовал образ отщепенца, мучительно желающего и не умеющего слиться с каким-то «естественным» миром — никому не нужен оторвавшийся от родимой ветки дубовый листок: «Иди себе дальше, о странник! Тебя я не знаю». И похитить что-либо у этого мира тоже невозможно: прекрасная Морская царевна, вырванная из родной стихии, погибает, как Бэла из «реалистического» «Героя нашего времени». Да и не таким уж она оказывается сокровищем — «чудо морское с зеленым хвостом» (невежество и простосердечие так же надоедают, как светское кокетство, признает Печорин).
Пушкин в «Пророке» являет грозную и величественную картину рождения божественного дара, завершая гордым напутствием: «Глаголом жги сердца людей»; Лермонтов в своем «Пророке» подводит итог;
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите ж, как он наг и беден,
Как презирают все его!
Кажется, «ничего во всей природе» не встречает у него безоговорочного восхищения, безоговорочной любви. Вернее, нет, как раз «природа» и дарует ему минутное отдохновение:
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога…
Но мир людей почти никогда не приносит успокоения, словно душа поэта некогда прикоснулась к какому-то иному, «ангельскому» бытию:
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
«Когда я был трех лет,— вспоминал Лермонтов,— то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».
Мать Лермонтова, запомнившаяся тарханским крестьянам кротостью, добротой и — бледностью, умерла в 1817 году, а «житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней», как написано на ее надгробном камне. Неужели гениально одаренный младенец и вправду мог запомнить ее пение? И каким вообще путем рождаются души тех страдальцев и пророков, которые со сверхчеловеческой остротой ощущают все дисгармоническое и мучительное, как канарейка в шахте первой улавливает запах рудничного газа? В «революционно-демократическом» лермонтоведении больше века господствовала упрощенная схема, выдвинутая блистательным Герценом в обличительных целях (ее придерживался даже такой глубокий исследователь, как Б. М. Эйхенбаум): поражение декабристов заставило следующее поколение, «замкнувшись в себе», вынашивать мысли «сомнения, отрицания, мысли, полные ярости».
Это, конечно, тоже часть правды, тем более что российский деспотизм оказывал себя еще и во множестве бытовых унижений. В Европе было бы немыслимо, чтобы высокопоставленный чиновник от просвещения, граф Панин, приказал университетским солдатам (в бытность Лермонтова в Московском университете) публично остричь и побрить двух взрослых студентов, угрожая «в другой раз» отдать в солдаты: «Вы ведь не дьячки!» (Мы-то думали, что так только дружинники со стилягами боролись…) В Школе гвардейских кавалерийских юнкеров, куда Лермонтов был зачислен приказом от 14 ноября 1832 года, «было запрещено читать книги литературного содержания и вообще полагалось стеснить умственное развитие молодых питомцев Школы»; за разговор с офицером на улице сажали под арест — притом под угрозой быть «выписанными» в армию,— все это можно прочесть у П. А. Висковатова.
И все же это не объясняет, отчего друг и соратник того же Герцена Белинский, принадлежавший к одному с Лермонтовым поколению, мог находить утешение то в гегельянском примирении с действительностью, то в новейших социальных утопиях, их же сверстник Константин Аксаков — в утопиях славянофильских, в отыскании «особого русского пути», в идеализации Древней Руси„а Лермонтов предпочел остаться со своими сомнениями и отрицаниями.
Не нужно увлекаться и «научно-психологическими» толкованиями: Лермонтов-де с младенчества разрывался между привязанностью к обожавшей его, богатой и властной бабушке (Марфе-посаднице, как называли ее приятели Мишеля по юношеской школе) и любовью к отцу, не имеющему средств для достойного воспитания отпрыска могучего рода Столыпиных (девичья фамилия бабушки). К отцу — умному, но бесчиновному, доброму, но вспыльчивому и порой легкомысленному, обаятельному, но одинокому и каким-то таинственным образом (измена?) повинному в безвременной смерти матери. Но ведь подобную драму переживают тысячи детей, и отнюдь не все они становятся Лермонтовыми (если даже не иметь в виду дар владения словом), а у Лермонтова сверх того в остальном детство было — с внешней стороны! — вполне идиллическое. Да перечтите, впрочем, «Как часто, пестрою толпою окружен…» — эти «погибших лет святые звуки»: детские воспоминания так и остаются неким островом в пустыне «под бурей тягостных сомнений и страстей».
Недостаточная родовитость, из-за которой Лермонтов в юности придумывал себе фантастическую родословную (его предок — испанский герцог Лерма)? Да, более реальный предок, ротмистр рейтарского полка, «из Шкотской земли выходец», скончавшийся в 1634 году, был менее знатен. Но зато историю его рода можно было возвести к воспетому самим Вальтером Скоттом легендарному шотландскому поэту Томасу Лермонту из замка Эрсильдон, уведенному в иной мир призрачными белыми оленями. И потом, юный Мишель Лермонтов очень скоро заставил свое имя прозвучать на всю Россию, в «большом свете» его «наперерыв отбивали друг у друга».
Он выглядел недостаточно красивым (хотя физически был очень силен и ловок)? Сквозь обаяние его гения нам сегодня трудно представить Лермонтова некрасивым, но и при жизни его благодаря таланту он покорил больше женских сердец, чем многие и многие светские львы,— кажется, сама императрица не осталась к нему равнодушной (что сильно повредило ему в его беспрестанных столкновениях с властями). «Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол»,— вспоминал его пятигорский знакомец декабрист Николай Лорер.
Словом, одна и та же политическая, семейная или «светская» ситуация у одного может вызвать гнев, у другого отчаяние, у третьего — желание примириться, или бежать, или приспособиться — для человеческой души — в этом я тоже романтик! — нет универсальных законов. Тем более — для души гениальной. Любят говорить еще о «духе времени», влиянию которого всегда подвергаются тысячи людей, обретающих при этом «духе», однако, зачастую даже противоположные мироощущения, притом мироощущения эти в подавляющем большинстве не оставляют заметного следа в искусстве: из множества идей и переживаний в художественной культуре остаются лишь те, которым посчастливится найти для своего выражения крупного художника. Ссылки на «требования времени», на влияние конкретных философских или художественных школ — или конкретных творцов,— тоже объясняют далеко не всё: этим влияниям всегда «откликаются» сотни эпигонов, лишь измельчающих волнующие умы вопросы, которые иногда вырождаются даже и в чистую пошлость, если не подхватываются подлинным талантом. А откуда берется талант, откуда в бенке рождается то, что превращает его в великого поэта, живописца, музыканта, остается тайной для нас, общие схемы здесь не годятся.
Душа — потемки еще и потому, что она всегда прячется под какой-то маской, и тем более усердно, чем более она целомудренна: Лермонтова часто обвиняли, что он что-то «напускает» на себя. Но заметьте: при том что его жизнь была полна гонений, грустных тайн и поэтического творчества, он не терпел претензий прежде всего на «гонимость», загадочность и поэтичность — отсюда и его язвительная насмешливость, в конце концов поставившая поэта под пулю Мартынова. И удивительно, как много лживых версий, обеляющих его убийцу,— то Лермонтов соблазнил его сестру, то распечатал переданные для него письма,— разошлось по свету! Впрочем, нет, неудивительно: стараясь оправдать Мартынова, все ничтожества отстаивают свое право на равенство с гениями. В этом отношении прямо-таки запредельна версия о литературном соперничестве Лермонтова с Мартыновым, пописывавшим полуграмотные стишки. Лермонтов предпочитал казаться фатом, бесшабашным рубакой, бретером — только бы не впасть в напыщенность или высокоумие (чем оскорблял даже влюбленного в его дар «неистового Виссариона», который всегда был предельно серьезен).
При всей своей насмешливости Лермонтов был с «женственной нежностью» предан немногим друзьям. Но даже самые близкие люди часто оказывались настолько поверхностными, что видели маску в проявлении самой глубокой его сути — в трагических стихах: Лермонтов-де в пору их написания веселился и озорничал, как сущий бес. Рискну заметить, что лишь тот, кто умеет и любит веселиться до самозабвения, способен по-настоящему измерить трагизм человеческого бытия. Но Лермонтов с юности (стихи 1832 г.) ощущал и плодотворность страданий:
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Вместе с тем Лермонтова бесило, что множество людей страдает, не сознавая этого. Истинный романтик, вечный искатель, стремящийся вырваться из любых навязанных рамок, рано или поздно начинает видеть главного врага в своей противоположности, а именно — в безмятежности, в спокойном подчинении и оправдании некоего верховного распорядка. И потому рано или поздно у него начинают звучать мотивы богоборческие. У Лермонтова они прозвучали очень рано:
Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю.
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.
(«Молитва», 1830 г.)
Как видим, еще в возрасте опять-таки девятиклассника поэтический талант начал представляться Лермонтову некоей неуправляемой стихией, неподвластной даже всесильному верховному владыке. Надо сказать, что образ гордого духа, бросающего вызов небу, и в России будоражил умы многих романтиков. Но лишь в лермонтовском «Демоне» этот мотив прозвучал с гениальной силой. Так что, если бы не лермонтовский гений, сейчас об этих исканиях знали бы только специалисты: «дух эпохи» растаял бы без следа.
Впрочем, я сужу по давнишнему впечатлению. А что если снова перечитать «Демона» уже совсем взрослым и даже немножко старым человеком?
И сразу две неожиданности. Поразительно, во-первых, что столько событий, страстей и красот умещается всего лишь на тридцати страницах. А во-вторых, лермонтовский Демон в моей памяти оказался заслоненным байроновским Люцифером, который никому не причинял зла, а оскорблял Всевышнего исключительно правдивостью. Он всего только отказывался считать добром смерть, страдания, ответственность детей за невольный грех родителей, чем и соблазнял первого романтика, Каина, с надменной уверенностью произнося вслух его же собственные, еще пугливые мысли. Поэтому сквозь эту призму выбор Тамары между Богом и Демоном представлялся мне выбором между мятущейся честностью побежденного и спокойным могуществом победителя, провозглашающего благом решительно все свои деяния. И она выбрала спокойствие и силу…
Но все оказалось гораздо сложней. Когда несколько рассеивается дурман этой поистине колдовской поэзии, в пространстве которой кто прекрасен, тот и прав (а уж Демон ли не прекрасен!), хочется подтвердить его правоту чем-то более доказательным. Заметьте: «старинной ненависти ад» пробуждает в Демоне его вечный антипод — ангел, безмятежная, антиромантическая праведность, явившаяся в келью Тамары как будто нарочно именно тогда, когда Демон входил туда «любить готовый, с душой, открытой для добра». Замысел первой редакции «Демона» (1829) был именно таков: Демон влюбляется в монахиню и добивается ее любви, но, встретив ее ангела-хранителя, «от зависти и ненависти решается погубить ее». Во второй редакции зло снова является результатом высокомерия (или, скажем мягче,— бестактности) добра, местью за отвергнутый благой порыв: Демон после гибели монахини «посла потерянного рая улыбкой горькой упрекнул». В окончательном варианте небо тоже прощает одну лишь Тамару: «Она страдала и любила — И рай открылся для любви!» Но позвольте — а Демон разве не любил? И не страдал? Его слезою был прожжен камень! Снова Бог милует того, кто покоряется, и отвергает того, кто не склоняется перед ним, он, подобно святейшей инквизиции, не прощает лишь непочтительности по отношению к себе: грешника милуй — еретика казни!
Но тут дух сомнения начинает поднимать голову и против бесспорного оправдания себя самого. Все-таки любовь Тамары была замешена на сострадании — Демон же в своем завораживающем монологе говорит только о собственных мучениях. И притом ставит их неизмеримо выше страданий прочих существ. Да, безусловно, жить своим умом и своей совестью, без надежды на «правый суд» — это очень нелегко. Но отзываться об океанах человеческих несчастий как о чем-то едва достойном упоминания — что люди, что их жизнь и труд! — великодушно ли это? Как тут не вспомнить, что Лермонтов, поэт и романтик, в стихотворении «Не верь себе» вступился за страдания «толпы» перед лицом поэтического вдохновения. А какие беспредельно трогательные звуки для материнской любви он находит в «Казачьей колыбельной песне»? А его еще упрекали в «демонизме»…
«Настоящий» Демон, даже утешая Тамару, потерявшую жениха (которого он сам же и подтолкнул к гибели), призывает ее быть «к земному без участья», ценить свою печаль дороже жизни «смертного творенья». При этом виртуозно играть на струне ее сострадания в своих целях ему кажется самым естественным делом,— попутно бросая слова презрения к земле, «где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты». А что он предлагает взамен своей возлюбленной? Некую «пучину гордого познанья» и — «все, все земное», не им созданное и агрессивно презираемое, «все земное», кроме той главной стихии, где только и нужен наиважнейший дар женской души — дар снисходительности, дар любви и нежности к слабым, несовершенным, бренным созданиям — людям. Да ведь именно этот дар и манит его!
Снова все то же самоуверенное или бездумное стремление вырвать живое существо из родного мира, чтобы поселить его в мертвых чертогах из бирюзы и янтаря («Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял»,— вспоминается здесь вновь «реалистический» «Герой»), Что спорить — Демон любил Тамару «нездешней страстью», ибо на земле не умеют любить «без боязни». Но зато на земле умеют любить вопреки боязни. «Я погибла,— но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить,— не говорю уж любить — нет, только помнить»; «При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже жизни, чести, счастья»,— эта любовь беззащитных, подверженных всевозможным несчастьям существ — не прекраснее ли она, чем любовь почти всесильного духа, которому ничем не приходится за нее расплачиваться?
Да Демон даже и о сотворенном им, лично им, зле вспоминает без тени раскаяния, видя в нем едва ли не одну поэтическую сторону: «И след кровавый За ним вился по крутизне…» Критик Варфоломей Зайцев, соратник Писарева, тоже видевший спасение человечества в естественных науках, очень обижался на Лермонтова за то, что он соединил в Демоне «познанье и свободу» со склонностью к буйным выходкам. Но что правда, то правда: раскаяния, смирения в Демоне нет и тени. А кроме того… Кажется, сейчас я расплачусь с Демоном за весь восторг, который Лермонтов навел на меня своим колдовским даром. Но и в восторге разоблачительства тоже не следует заходить слишком далеко. И охладить его может прославленный Владимир Соловьев, обвинивший самого Лермонтова примерно в том же, в чем я только что обвинял его Демона. А именно: страшная сосредоточенность на своем «я» (нет той открытости всему задушевному, которая так чарует в лире Пушкина); о Боге всегда говорит с какою-то личной обидой (даже отказ Лермонтова, отличного стрелка, во время дуэли стрелять в своего убийцу представляется философу-христианину вызовом высшим силам); и последний, самый тяжкий грех — гордыня, полное отсутствие раскаяния, в то время как лишь смирение может продвинуть человечество по пути совершенствования.
Конечно, из-за того только, что Владимир Соловьев сейчас вошел в моду, еще не следует презирать его суд,— безусловно, он был очень умный и благородный человек. Но любое универсальное учение, претендующее на знание «самого правильного» пути к совершенству, становится гибельным для искусства. А пожалуй, даже и для жизни, которая всегда содержит в себе зерно противоречивости, непредсказуемости и непредписанности, то есть зерно романтизма. Возможных путей к совершенству скорее всего не меньше, а может быть, и во много раз больше, чем людей на Земле. А попытки подчинить талант (о, разумеется, лишь для блага человечества!) какой-то очередной (и на этот раз уже окончательно правильной) доктрине всегда приводят к одному результату — к его гибели. По крайней мере к надлому.
Но Лермонтов в отличие от Гоголя не позволил себя сломить. И в своем «святом ремесле» среди беспрерывных гроз и празднеств двигался к совершенству со сказочной быстротой — а для этого нужно судить себя очень строго.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа: И радость, и муки, и все там ничтожно.
Правда, эту горечь трудно назвать смирением: вернее, она проистекает из непомерных (опять гордыня!) требований к себе, то есть из необыкновенно высоких представлений о том, каким должен быть человек. Не было ли глубинной причиной лермонтовской «с небом гордой вражды» желание защитить достоинство земной человеческой стойкости, честности, земной человеческой любви?
Что мне сиянье божьей власти
И рай святой? Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Иначе говоря, в основе лермонтовского бунта лежала, быть может, жажда свободной (свободно, не под чьим-то диктатом избранной) человечности. Мечта скорее всего несбыточная: вероятно, ближе к истине пребывают официальная церковь и расхожая мораль, полагающие человека слишком алчным, трусливым и злобным существом, чтобы быть пригодным к исполнению долга без верховной направляющей десницы. Но ведь красота и практичность — разные вещи…
Да и так ли уж непрактичен Лермонтов, если взвешивать плоды его собственной судьбы? О вредоносности гордыни можно сказать много обличительных (и справедливых!) слов. Но не эта ли пресловутая «гордыня» одарила Лермонтова той изумительной стойкостью, с которой он без единой жалобы исполнил свой долг поэта, изгнанника, воина? Исполнил, не прячась ни в социальные, ни в философские, ни в религиозные утешительные сказочки. Хотя и с серьезными издержками, Лермонтов показал: это возможно — жить достойно без надежды на правый суд, опираясь только на собственное чувство чести. И в этом железном мужестве, свободном от иллюзий,— еще один урок, преподанный нам Лермонтовым. Кто знает, не вспоминались ли ему слова пламенного Шиллера, которому он подражал в своих ранних драмах: «Муки отступят перед моею гордыней!»
И как тут не вспомнить добрым словом Виссариона Григорьевича Белинского, который после едва ли не единственного откровенного разговора с Лермонтовым воскликнул: «Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве!» Простодушный до святости неистовый Виссарион сумел почувствовать, что есть нечто бесконечно более высокое и — долговечное, нежели его «понятия», «убеждения», через несколько поколений способные вызвать в лучшем случае снисходительную улыбку. Но христианскому философу Владимиру Соловьеву подобные сомнения чужды: его монополия на истину поддерживается не только «наукой», как казалось Белинскому, но прямо-таки Верховной Волей.
Я же признаюсь вам по секрету: если бы кто-то каким-то чудом доказал, что существует некий самый правильный путь к самому правильному совершенству, которому Лермонтов не соответствует,— я бы все равно не повторил предательства Тамары: я бы остался с Лермонтовым, со «страшной жаждой песнопенья», а не с совершенством.